Лермонтов. День рождения отмечается 15 октября, а 2014, год для поэта 200-летний юбилей, с одной стороны – равносилен Пушкину, а с другой – начало совсем иной традиции.
Пушкин – солнце, шампанское, радость, с благодарностью принимающий все, что ни случалось на его пути, а Лермонтов – как птица в клетке, мечущийся и не находящий себе места и мечтающий вырваться из клетки и улететь далеко-далеко, где прохлада и свобода.
Он рвался из этого мира, ему здесь было плохо, скучно, неуютно и никогда радостных ноток и упоения жизнью даже в ранних стихах у Лермонтова не было.
Лермонтов – начало лунной традиции, в которой добро борется со злом, земля с небом, повседневность с вечностью. Его мир расколот на здесь и Там, и сам весь он устремлен к горнему миру, но живет все-таки здесь, на этой грешной земле. Это его тяготит, но и не считаться с этим он не может. И этот трагический разрыв между здесь и Там чувствуется во всех его стихах.
С тех пор как Вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Лермонтов весь соткан из противоречий: устремленный в Небо, ненавидит земную жизнь; стремящийся к идеалу и чистоте, рассыпает их в прах, чуть до них дотронувшись; стремящийся к любви, он любви не вызывает и разрушает все, до чего касается.
Он везде лишний, никуда и ни в какую нишу не вписывающийся, выламывающийся из всех норм и пределов, не о-пределенный.
Михаил Юрьевич рано понял свою миссию, особенно утвердившись в ней в последние четыре года, тяжело пережив смерть Пушкина. После смерти поэта Лермонтов стал другим и, как камертон, задал тон всей последующей русской поэзии.
Лермонтовым, как потом и всеми русскими поэтами, жизнь ощущалась как место, где жить нельзя, где поэты – вечно гонимые жиды; пророки, всегда побиваемые камнями; вечные странники, называемые гордецами и глупцами.
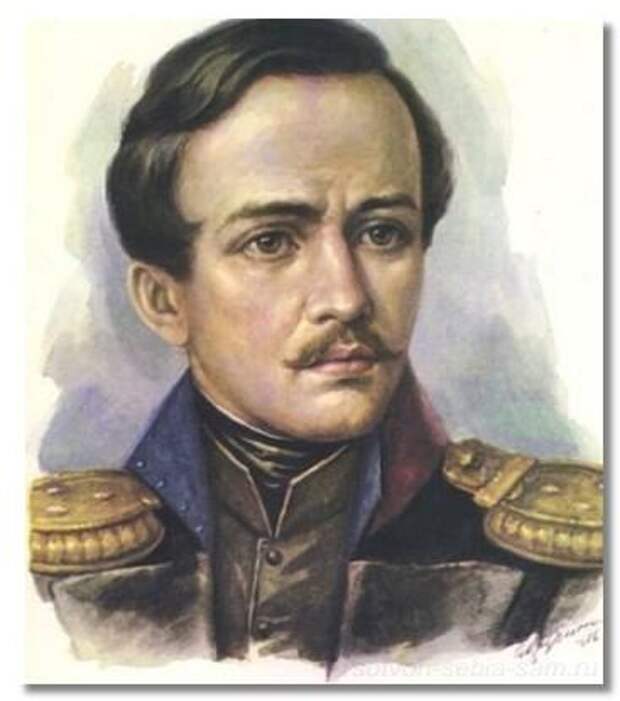 Лермонтова не любили за максимализм и неприкаянность, маяту по Вечному Духу и тоску по неведомому, за резкость и гордыню, неуживчивость и собственное мнение. Он ненавидел лицемерие, приличия и маски, в которые одевалась бездушность, затягиваясь в них как в корсет. И все тише и ненужней звучит голос поэта в этом мире:
Лермонтова не любили за максимализм и неприкаянность, маяту по Вечному Духу и тоску по неведомому, за резкость и гордыню, неуживчивость и собственное мнение. Он ненавидел лицемерие, приличия и маски, в которые одевалась бездушность, затягиваясь в них как в корсет. И все тише и ненужней звучит голос поэта в этом мире:
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блёстки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...
Отсюда рефреном звучит голос одинокого странника, одинокого паруса, одинокого утеса и одинокой тучки. Лермонтов ищет параллели своей жизни с жизнями пророков и странников, неприкаянных и отовсюду гонимых, которым неуютно, но которые стремятся, как дубовый лист, прибиться хоть к чему-нибудь, быть нужным хоть кому-нибудь своими чудными сказками. Но в ответ слышит только одно:
"Иди себе дальше; о странник! Тебя я не знаю!И желтый и пыльный – ты не пара жизнерадостным и упоенным райским и свежим пением".
И потому жизнь, «оказывается пустой и глупой штукой», от которой уже ничего не ждешь. В школе, и позднее, всегда считала Лермонтова тенью Пушкина, обращая внимание на темы, цитаты и слова, которые Михаил Юрьевич заимствовал и рассыпал в своих стихах из своего предшественника.
Но интонация, интонация у Лермонтова совсем иная. Она и есть то измерение, которое делает его стихи трагическими, мистическими и очень личностными одновременно. Только с годами, многое пережив, открыв для себя личный молитвенный опыт, по-другому прочитала и Лермонтова, удивившись: как же раньше-то я этого не замечала!
А между тем его молитвы полны тоски и только одной просьбы - быть милостивым к нему:
Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я любил.
Или:
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.С души как бремя скатится,
Сомненье далеко --
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
Наконец, «Завещание», в котором Лермонтов, предчувствуя свой конец, прощается с жизнью и обращаясь к другу, просит выполнить его предсмертные просьбы.
Дальше ему остается жить всего полгода. И полное ощущение, что его дуэль была самоубийством, на которое он шел сознательно.

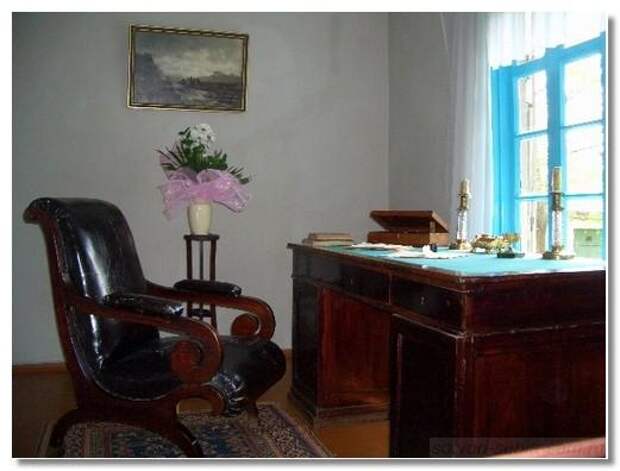


Свежие комментарии